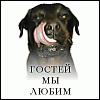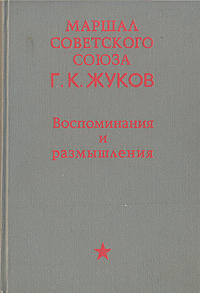Ну как, заполним паузу?
Подводная война с мая 1943 года до конца войны
События, происшедшие в мае 1943 года, недвусмысленно показали, что наступил момент, когда противолодочная оборона обеих великих морских держав превзошла боевую мощь наших подводных лодок.
Требовались месяцы, чтобы оснастить лодки улучшенным оружием, которое находилось пока только в стадии конструирования и производства. На новые лодки с высокой подводной скоростью хода до конца 1944 года нечего было и рассчитывать.
К июне 1943 года мне пришлось принять самое трудное за всю войну решение. Следовало решить, надо ли отозвать подводные лодки из всех районов операций и прекратить подводную войну или же, несмотря на превосходство противника, приказать подводным лодкам продолжать борьбу в формах, соответствующих изменившимся условиям.
Германия на всех фронтах перешла к обороне. Наши сухопутные силы вели тяжелые оборонительные бои. Непрерывно усиливались воздушные налеты на территорию Германии. Какие последствия для общего военного положения имело бы в этих условиях прекращение подводной войны? Могли ли мы обойтись без нее? Имели ли мы право продолжать ее, несмотря на то что были значительно слабее?
Подводная война заставила морские державы перейти к системе конвоев. По англо-американским данным, эта система требовала на треть больше тоннажа, чем если бы суда ходили в одиночку, кратчайшим путем, используя оптимальную скорость хода, не ожидая друг друга и не направляясь сначала на определенные сборные пункты. Погрузка и разгрузка судов замедлялись, потому что суда в конвоях прибывали в порты одновременно. Это вело и к растрате тоннажа. Для защиты от германских подводных лодок морские державы использовали на всех морях тысячи эсминцев, эскортных и сторожевых кораблей и тысячи самолетов.
Все это требовало гигантской сети верфей, арсеналов, баз и аэродромов с соответствующим личным составом, целой армии рабочих и значительных производственных мощностей.
Стоило нам прекратить подводную войну, как эти силы высвободились бы и противник получил бы возможность использовать их против нас.
Приведу лишь один пример. Вопрос заключался в следующем: можем ли мы допустить, чтобы эскадры бомбардировщиков, действовавших против подводных лодок, начали совершать налеты на Германию и наносить неисчислимые дополнительные потери немецкому населению? К лицу ли было подводнику наблюдать за всем этим сложа руки? Поставить так вопрос значило бы дать на него ответ.
Но в то же время следовало признать, что сложилась ситуация, при которой, если мы будем продолжать борьбу, потери подводных лодок достигнут ужасающих размеров, даже если мы будем делать все, чтобы как можно быстрее улучшить их оборонительное оружие и тем самым обеспечить им более действенную защиту. Было ясно, что дальнейшая борьба неизмеримо увеличит число жертв.
Я пришел к выводу, что мы стоим перед лицом горькой необходимости продолжать борьбу. Подводные силы не могли одни выйти из войны и стать свидетелями того, как бремя, которое они до сих пор несли, всей своей тяжестью дополнительно обрушится на остальные части германского вермахта и на немецкое гражданское население.
К тому же если бы операции подводных лодок оказались прерванными на длительный срок, было бы трудно возобновить их силами новых подводных лодок. Ведь боевой дух даже самых лучших войск не может безнаказанно выдерживать такую паузу. Наконец, нам нельзя было ослаблять борьбу, потому что без хорошего знания обстановки позднее мы могли бы возобновить ее лишь ценой очень больших усилий.
Вопрос стоял так: поймут ли подводные силы необходимость продолжения борьбы, в которой уже нельзя добиться крупных успехов?
В новых условиях в первую очередь следовало быстро улучшить вооружение подводных лодок. Для совершенствования радиолокационного оборудования был создан руководящий научный штаб военно-морского флота. Совместно с имперским исследовательским управлением и с наиболее компетентными в данной области научными и промышленными деятелями штаб в первую очередь должен был создать для подводных лодок новый поисковый радиолокационный приемник, способный обнаруживать работу радиолокаторов противника, работающих на различных частотах, и тем самым оградить лодку от внезапных атак.
Во-вторых, более мощное зенитное вооружение должно было дать экипажам подводных лодок возможность оказывать более успешное сопротивление при внезапных налетах авиации в тех случаях, когда времени для погружения уже не оставалось.
Третье основное улучшение в вооружении подводных лодок заключалось в создании акустической торпеды, система самонаведения которой реагировала на шум винтов эсминцев даже в тех случаях, когда они держали курс точно на подводную лодку. Разработка и изготовление акустической торпеды были проведены в таком форсированном темпе, что она стала поступать на вооружение флота уже в августе 1943 года, а не осенью 1944 года, как было запланировано первоначально.
Определить заранее, насколько новые виды вооружения восстановят боевую мощь подводных лодок, было трудно. Какое влияние оказали они в действительности, видно из последующего изложения событий.
Наибольшей опасности от ударов с воздуха подвергались подводные лодки в Бискайском заливе вскоре после выхода их в море и незадолго до возвращения в порт. Это происходило, в частности, потому, что собственно базы были неуязвимы.
25 октября 1940 года во время очередного доклада Гитлер спросил меня, какие, с моей точки зрения, укрытия для подводных лодок необходимы на побережье Бискайского залива, чтобы защитить их от налетов авиации. Полную защиту подводных лодок в базе, ответил я, можно обеспечить только в том случае, если на всех стоянках во время пополнения запасов, отдыха экипажей и ремонта они будут находиться в бетонных укрытиях. Точно так же должны быть защищены мастерские по ремонту подводных лодок.
Через несколько дней удалось достигнуть договоренности относительно количества и типа укрытий, намеченных к строительству в базах.
К концу 1941 года подводные лодки в Лориане и Ла-Паллисе, в середине 1942 года — в Бресте и Сен-Назере, и несколько позднее — в Бордо были полностью обеспечены укрытиями. Аналогичные укрытия, но в меньшем количестве, построили в Германии.
Английское командование допустило серьезную ошибку, когда решило не бомбардировать с воздуха укрытия на бискайском побережье в период их строительства и предпочло производить налеты на немецкие города (Roskill S.W., Vol. I, p.459). Когда же подводные лодки очутились под защитой бетонных укрытий, время для налетов авиации было упущено. Несмотря на это, в начале 1943 года, когда битва за Атлантику находилась в самой критической стадии, английский кабинет принял решение бомбить французские города и предприятия, находящиеся вблизи от баз подводных лодок, невзирая на свои прежние опасения, что при этом пострадает французское население (Ibid, Vol II, pp.351-352).
Эти налеты, превратившие в развалины значительную часть жилых районов французских портовых городов, не оказали, однако, никакого влияния на ремонт подводных лодок. Только в одном-единственном случае крыша укрытия, которую не успели как следует укрепить, оказалась серьезно поврежденной сверхтяжелой бомбой и почти пробитой. Никакого другого ущерба причинено не было.
Но насколько подводные лодки были обеспечены от налетов авиации в базах, настолько неприятными были атаки самолетов противника во время перехода лодок через Бискайский залив. Из-за слабости авиации командование подводных сил каждый раз сталкивалось с проблемой: как собственными силами обеспечить переходы лодок через этот морской район с минимальными потерями?
22 мая 1943 года "U-441" — первая подводная лодка, которую из вышеуказанных соображений переоборудовали в "приманку" для самолетов,— вышла из Бреста в море. Она имела два 20-миллиметровых четырехствольных пулемета и полуавтоматическую 37-миллиметровую пушку. Задача лодки состояла в том, чтобы "не отгонять, а сбивать" самолеты противника. Нужно было постараться так проучить английских летчиков, чтобы у них отпала охота атаковать подводные лодки, следовавшие в надводном положении, или хотя бы внушить им, что это стало теперь более рискованным, чем до сих пор.
Вначале все, казалось, шло по плану. "U-441" атаковал с бреющего полета четырехмоторный "Сандерленд", однако лодка сбила его. Но из-за задержки у кормового четырехствольного пулемета самолет все же успел сбросить бомбы, так что лодка, также получив повреждения, вынуждена была вернуться в базу.
8 июня 1943 года "U-758", также получившая усиленное зенитное вооружение в виде четырехствольного 20-миллиметрового пулемета, вступила в бой с самолетами авианосной авиации. Командир лодки докладывал:
Мы расценили оба боя положительно с точки зрения эффективности усиленного зенитного вооружения подводных лодок."19.18. Атакован с правого борта одномоторным самолетом авианосной авиации, идущим на бреющем полете. Отстреливаюсь бортовым оружием. При приближении самолета отмечены многочисленные попадания. Самолет отворачивает до подхода к цели и производит аварийное сбрасывание четырех 80-100-килограммовых бомб. Они ложатся в 200 метрах по траверзу правого борта. Самолет сбрасывает вблизи дымовой буй и возвращается к своему соединению.
Максимальным ходом отхожу курсом на юго-запад. Два самолета сменяют поврежденную машину. Они кружатся на высоте 3 000 и на дистанции 4 000 — 5 000 метров от лодки, но не атакуют. Временами ведут обстрел из бортового оружия. Попаданий нет.
19.45. Новый самолет типа "Мартлет" на бреющем полете атакует с правого борта огнем бортового оружия. Мне удается добиться нескольких попаданий. Машина круто разворачивается у кормы и сбрасывает четыре бомбы. Они ложатся примерно в 25 метрах позади кормы. Самолет оставляет широкий дымный след и, описывая кривую, падает. Отстреливаясь бортовым оружием, удерживаю бомбардировщики на дистанции 3 000 — 4 000 метров. Несколько машин начинают подходить, но на расстоянии 2 000 — 3 000 метров отворачивают. В 20 часов два истребителя типа "Мустанг" атакуют на бреющем полете, ведя огонь из бортового оружия. На обеих машинах заметны следы попаданий. Одна из них повреждена и возвращается к своему соединению. Ее сменяет другой истребитель.
Два 20-миллиметровых пулемета-автомата повреждены в результате прямых попаданий. Вертлюги зенитных орудий заело. 11 зенитчиков и сигнальщиков-наблюдателей легко ранены. Решаюсь идти на погружение."
И прежде случалось, что подводные лодки, которые совместно следовали через Бискайский залив, используя усиленную огневую мощь и согласованное распределение зенитного огня, вынуждали атакующие самолеты отвернуть или во всяком случае не давали им возможности провести прицельное бомбометание. На основе этого опыта и действий "ловушки самолетов" "U-441" в конце мая 1943 года мы решили в виде пробы проводить подводные лодки через Бискайский залив, как правило, совместно.
Первые донесения командиров лодок, полученные до 10 июня, оказались положительными. Отдельные подводные лодки прошли через Бискайский залив без помех, другим благодаря усиленной огневой мощи удалось отбить неоднократные атаки самолетов противника.
Но уже через две недели противник начал приспосабливаться к новой тактике. Обнаружив группу лодок, самолет сохранял контакт вне досягаемости их зенитных орудий, но в такой опасной близости, что командиры лодок не могли рискнуть пойти на погружение, боясь подвергнуться во время этого маневра атаке и бомбардировке. По мере же прибытия новых машин самолеты выходили в групповые атаки.
Так, например, группа из пяти вышедших в море лодок сначала отбила несколько атак одиночных самолетов, а потом подверглась обстрелу со стороны четырех истребителей. "U-155" и "U-68" понесли при этом значительные потери в личном составе и вынуждены были вернуться в базу.
Этот случай показал, что следовать весь день в надводном положении стало опасно. Снова приняли старый метод, заключавшийся в том, чтобы, как правило, идти в подводном положении и всплывать днем только для зарядки аккумуляторных батарей. Если же активность самолетов днем была очень значительной, зарядку батарей переносили на ночь.
В конце июня 1943 года английское адмиралтейство усилило блокаду в Бискайском заливе особыми противолодочными группами. Если благодаря тактике групповых переходов потери в Бискайском заливе в июне 1943 года по сравнению с маем того же года значительно снизились, то в июле они вновь возросли. Когда лодка всплывала для зарядки батарей, самолеты вызывали противолодочные группы. У нас же не было надводных сил, чтобы отогнать противника, патрулировавшего в непосредственной близости от баз наших подводных лодок.
Единственное, что могло сделать командование подводных сил, — это ежедневно сообщать подводным лодкам о местонахождении блокирующих морских сил и авиации противника, да и то лишь в той мере, в какой это удавалось определить на основании наблюдений германской авиации и по данным радиолокации.
Опыт со вторым походом "ловушки самолетов" окончился неудачно.
11 июля 1943 года "U-441" вступила в Бискайском заливе в бой с тремя истребителями противника. Несмотря на то что подводникам один из самолетов удалось поджечь и что мостик "U-441" имел бронированную обшивку, от непрерывного обстрела экипаж понес такие потери, что лодке в конце концов пришлось выйти из боя. Воспользовавшись благоприятным моментом, лодка погрузилась и избежала бомбардировки. Корабельный врач благополучно привел ее в Брест.
Тотчас же по прибытии "U-441" в Брест многочисленные добровольцы из числа флотского экипажа флотилии вызвались выйти в море на этой лодке вместо убитых и раненых товарищей.
Командование подводных сил после этого боя поняло, что лодка плохо приспособлена для боя с самолетами. Поэтому решили отказаться от дальнейшего переоборудования подводных лодок в "ловушки самолетов" и использования их.
Хотя имелись некоторые доводы против системы групповых переходов Бискайским заливом, общий результат все же говорил за то, чтобы продолжать придерживаться ее. Между 1 и 20 июля 1943 года примерно 75 процентов всех подводных лодок проследовали через Бискайский залив группами. Из этих 75 процентов были потеряны три лодки, а из 25 процентов лодок, следовавших в одиночку, — четыре подводные лодки.
В конце июля 1943 года две группы подводных лодок были готовы к выходу в море. Поскольку в этот момент в нашем распоряжении имелись эсминцы, я приказал им сопровождать подводные лодки примерно до 8 градуса западной долготы. Затем командирам лодок предоставили выбирать — либо следовать дальше группой, либо идти в одиночку. Они продолжали поход все вместе.
Однако уже на следующий день одна из лодок группы донесла, что ведет бой с пятью самолетами в 150 милях к северу от мыса Ортегал, у северного побережья Испании. В поддержку ей немедленно направили эскадрилью из девяти Ju.88, которая, однако, не достигла места боя из-за нехватки горючего. Одновременно другие четыре подводные лодки донесли из Бискайского залива, что их атакуют самолеты и что поблизости находятся военно-морские силы противника. Три больших миноносца — все, что имелось в нашем распоряжении — были направлены на помощь лодкам.
Таким образом, усилия противника, стремившегося блокировать пути нашего выхода в море, достигли небывалых масштабов. Поэтому в ожидании, пока выяснится исход боев и судьба подводных лодок, 2 августа 1943 года лодкам впредь выходить в море было запрещено.
Со временем выяснилось, что с 20 июля до начала августа мы понесли ужасающие потери — 10 подводных лодок. Значительно возросло количество самолетов, действовавших против подводных лодок. Они атаковали теперь группами, чтобы иметь возможность бороться с зенитным огнем подводных лодок, совершавших переходы совместно. Поэтому пробивать себе дорогу через Бискайский залив с помощью зенитного оружия подводных лодок стало невозможно. Лодкам пришлось вернуться к старым методам. Каждый раз, когда они устанавливали, что их обнаружил противник, они немедленно погружались и следовали через Бискайский залив в подводном положении. Поскольку новые поисковые радиолокационные приемники с расширенным диапазоном частот должны были начать поступать только с конца августа 1943 года, я сохранил до этого времени в силе приказ о запрещении подводным лодкам выходить в море. Возвращавшимся из похода лодкам было дано указание прижиматься к испанскому берегу. В результате благоприятного стечения обстоятельств подводным лодкам, следовавшим в базы, удалось благополучно дойти до них.
В районах боевых действий результаты применения нового зенитного оружия оказались примерно такими же, как в Бискайском заливе. До сентября 1943 года донесения большинства командиров лодок носили благоприятный характер. Они констатировали, что самолеты противника стали вести себя значительно осторожнее, чем прежде, и иногда даже, когда сталкивались с готовой к обороне подводной лодкой, не решались атаковать ее. В результате общие потери находившихся в море подводных лодок в сентябре вновь снизились до 10 процентов. Но с начала октября число атак авиации и вместе с ним потери подводных лодок вновь значительно возросли. Лодкам, правда, удалось сбить некоторое число самолетов, но все это мало помогало, так как непрерывно атакующие самолеты в конце концов причиняли лодкам повреждения или уничтожали их. Зенитное оружие соответствовало своему назначению только в том случае, если оно было достаточно мощным, чтобы отгонять самолеты или сбивать их еще до выхода на цель. Между тем оказалось, что на использовавшихся против подводных лодок тяжелых бомбардировщиках и летающих лодках нижнюю часть фюзеляжа защищала прочная броня и что 20-миллиметровые зенитки, как правило, не пробивали ее. Только этим можно было объяснить то, что некоторые самолеты, получив более ста попаданий, не оказывались сбитыми.
После того как в мае 1943 года мы потерпели поражение в боях с конвоями в Атлантическом океане, нам пришлось прибегнуть к старой тактике, заключавшейся в том, чтобы бить противника по его уязвимым местам. Настало время вновь направить подводные лодки в удаленные районы, так как в изменившихся условиях эти районы становились относительно более перспективными. Опыт должен был показать, насколько слабее там противолодочная оборона.
Стремясь перенести действия подводных лодок в менее опасные районы, я принял решение направить их в Индийский океан.
Наш военно-морской атташе в Токио усиленно заботился о координации германских и японских военно-морских операций. В декабре 1942 года он сообщил, что Япония предлагает использовать находившиеся в сфере ее оккупации порты Пенанг и Сабанг в качестве баз германских подводных лодок, действующих в северной части Индийского океана.
Это базирование было, однако, возможно только при условии обеспечения баз применяемыми на германских подводных лодках топливом и смазочным маслом, запасными частями и боеприпасами и прежде всего консервированным провиантом, так как привыкшие к европейской пище подводники не смогли бы обходиться привычным для японцев продовольствием. По требованию японского морского командования было начато техническое оборудование базы в Пенанге. Весной 1943 года японское командование вновь несколько раз повторило пожелание, чтобы были присланы германские подводные лодки.
До тех пор пока в Атлантическом океане было достаточно возможностей для успешных действий лодок, японские предложения отклонялись.
Но поскольку с апреля 1943 года положение изменилось, было решено в конце июня 1943 года направить в Индийский океан несколько лодок IХc и IХc-2 серий. Эти лодки после прекращения юго-западного муссона, сопровождавшегося большим волнением и плохой видимостью, которые мешали их действиям, должны были предпринять внезапные атаки в северной части Индийского океана и после этого прибыть в Пенанг.
Лодки потопили в Индийском океане и на переходе из Германии и обратно 57 судов общим тоннажем 365 807 рег.-бр. тонн. Несколько судов было повреждено. Наибольших успехов добилась "U-510". Из больших лодок IХc-2 серии лучше всех действовала "U-181". К сожалению, эти успехи стоили нам недешево. До конца войны мы потеряли 22 лодки из числа подводных кораблей, направленных а Индийский океан; 16 подводных лодок потопили самолеты, преимущественно на переходе Атлантическим океаном.
Выяснилось, что на всем протяжении Атлантического океана патрулирование осуществляли либо трехмоторные бомбардировщики с большим радиусом действия, либо самолеты с американских авианосцев, которые охотились за подводными лодками в центральной и южной частях Атлантического океана. В Индийском океане против подводных лодок действовали также самолеты, правда, в меньшем числе. Активность англо-американской авиации против германских подводных лодок повысилась повсеместно. Она оставалась весьма значительной до самого конца войны.
В этом мы убедились при организации действий подводных лодок в других удаленных морских районах.
Направленные туда лодки еще в середине июня 1943 года могли без помех принять топливо от подводного танкера, который находился западнее Азорских островов, и следовать после этого в свои операционные районы, простиравшиеся от юго-восточного побережья Америки до Рио-де-Жанейро и от Дакара до внутренней части Гвинейского залива.
Каждому командиру был выделан обширный район, в котором он мог действовать в зависимости от маршрутов торгового судоходства и организации противолодочной обороны противника. При использовании подводных лодок мы избегали сосредоточения их, чтобы не вызывать соответствующего сосредоточения сил противолодочной обороны.
Вначале действия подводных лодок развивались успешно. Лодки потопили 16 судов. Но вскоре противник усилил воздушное патрулирование настолько, что лодкам стало трудно оставаться в американских водах.
В свою очередь и прием топлива в море от подводных танкеров сделался настолько опасным, что от него пришлось отказаться. Это привело к тому, что лодки вынуждены были соответственно сокращать сроки своих действий в назначенных им районах.
Насколько мы могли судить, и в удаленных районах потери лодкам наносили только самолеты. Таким образом, наше намерение снизить потери путем перенесения операций в удаленные районы осуществить не удалось.
В июне мы потеряли менее 20 процентов действовавших в море лодок. Но в июле 1943 года вновь было потеряно более 30 процентов. При этом на переходе через Бискайский залив погибло столько же лодок, сколько погибло за многонедельное пребывание в операционных районах. Таким образом, приказ от 2 августа о запрещении выхода в море вполне соответствовал сложившейся обстановке.
Во второй половине августа 1943 года на базах Бискайского залива завершалось оснащение первых подводных лодок новейшими радиолокационными станциями "Хагенук". Кроме того, каждая лодка получала поступившие к тому времени на вооружение флота акустические торпеды, носившие условное название "Цаункениг".
Таким образом, помимо усиленного зенитного вооружения, эти лодки имели и другие виды оружия и боевой техники, которые повышали их боевые качества. Личный состав подводных лодок проходил соответствующую специальную подготовку по освоению новой боевой техники и оружия.
Мы рассчитывали, что этим лодкам удастся скрытно пройти в подводном положении до Северной Атлантики и там, действуя в составе группы против эскадренных миноносцев и авиации противника, атаковать один из конвоев.
Надо было вообще повысить активность в этом районе Атлантики и при этом действовать крупными силами. Массированные действия необходимы были еще и потому, что, как установило наблюдение за радиосвязью противника, несколько сотен четырехмоторных бомбардировщиков 15-й и 19-й групп военно-воздушных сил английского берегового командования, действовавших до этого в Совершай Атлантике в составе сил противолодочной обороны, в июле 1943 года принимали участие в массовом налете на Гамбург, вызвавшем громадное число жертв среди гражданского населения. Временное отвлечение английских самолетов из районов Северной Атлантики стало возможным для противника, конечно, в результате приказа о возвращении действовавших там подводных лодок. Это уменьшило опасность нападения немецких лодок в водах западнее Великобритании.
С волнением следили мы за переходом подводных лодок, в конце августа 1943 года направлявшихся из Бискайского залива в Северную Атлантику. Возникал вопрос: поможет ли новый поисковый радиолокационный приемник обеспечить защиту лодок от внезапных нападений с воздуха?
Несмотря на сильное патрулирование, донесений о налетах авиации на подводные лодки в Бискайском заливе поступало мало. Это обстоятельство позволяло, сделать вывод, что условия, по-видимому, решительным образом улучшаются и что этому мы, очевидно, обязаны новой радиолокационной станции "Хагенук". Как было установлено, из группы лодок, совершавших переход через Бискайский залив и оснащенных торпедами "Цаункениг", не погибла ни одна.
Начиная с этого времени и вплоть до мая 1944 года в Бискайском заливе мы теряли в среднем не более одной — двух лодок в месяц.
Едва подводные лодки группы "Цаункениг" достигли назначенного им района боевых действий, как ночью 20 сентября 1943 года на дуге большого круга был обнаружен ожидаемый конвой. С наступлением рассвета подводным лодкам из подводного положения удалось атаковать торпедами два судна. Затем из-за сильного воздушного и надводного охранения контакт с конвоем был потерян. В первый день боя совместные действия по отражению атак с воздуха не удались, так как подводные лодки находились слишком далеко друг от друга. В вечерние сумерки того же дня контакт с конвоем удалось восстановить.
Теперь подводным лодкам пришлось иметь дело главным образом с сильным надводным охранением противника. Впервые были использованы новые акустические торпеды.
На следующий день некоторым лодкам зенитным огнем удалось отразить атаки бомбардировщиков. Эти лодки сохраняли возможность оставаться на поверхности и могли идти на сближение с конвоем.
Четверо суток длился бой, часто прерывавшийся из-за тумана и закончившийся в конце концов по той же причине. С подводных лодок поступили донесения об уничтожении новыми акустическими торпедами 12 эскадренных миноносцев и потоплении, кроме того, обычными торпедами девяти судов общим тоннажем 46 000 рег.-бр. тонн. В этом бою погибли две лодки.
Достигнутые успехи мы считали хорошими, учитывая, что уже со второго дня боя туман отрицательно сказывался на действиях лодок.
Однако из-за поступавших донесений мы переоценили эффективность торпед "Цаункёниг". Как выяснилось впоследствии, командиры подводных лодок завышали число потопленных ими кораблей охранения. Объяснялось это тем, что после выстрела с небольшой дистанции акустической торпедой подводной лодке приходилось немедленно погружаться на глубину 60 метров. В противном случае возникала опасность, что такая торпеда сработает на шум винтов самой подводной лодки. В этих условиях, когда выстрел производился с небольшой дистанции и попадание фиксировалось только на слух, легко могло случиться, что взрывы глубинных бомб ошибочно принимались за взрывы торпед.
По английским данным, в бою против этого конвоя было потоплено шесть судов общим тоннажем 36 422 рег.-бр. тонн, а также корабли охранения "Сент Круа", "Полиандес" и "Итчен". Сильные повреждения получил и "Лэган", который противнику все же удалось взять на буксир.
Опыт действий против конвоев в сентябре — октябре 1943 года требовал учесть, что в первом бою подводных лодок, оснащенных торпедами "Цаункениг", значительную роль в их защите от ударов с воздуха сыграл туман. В дальнейшем нашим лодкам уже не удавалось пробиться сквозь воздушное охранение противника. Сравнительно удачных результатов первого опыта использования акустических торпед в последующие месяцы достигнуть не удалось, и вскоре выяснилось, что и новое оружие недостаточно для восстановления необходимой боеспособности подводных лодок. Мы были вынуждены решительным образом отказаться от массированного использования подводных лодок против конвоев. Оставалось только возможно расчетливее продолжать вести действия, сковывающие силы противника. Нельзя было допустить, чтобы напряженная обстановка, созданная для противника на морских сообщениях, облегчилась. Осуществление этого требовало весьма значительного числа подводных лодок, так как только опасение, что в любой момент немецкие лодки могут сосредоточиться для групповых действий, заставляло противника держать в готовности самолеты и корабли противолодочной обороны и лишало его возможности использовать эти силы для решения других задач.
Насколько напряженно протекала борьба в этот период, показывают записи в "Журнале боевых действий штаба командующего подводными силами" за 1 июня 1944 года:
Все чаще приходилось задумываться над вопросом, является ли при столь высоких потерях целесообразным и оправданным дальнейшее продолжение подводной войны и не следует ли искать иных путей. Однако, учитывая весьма значительные силы противника, которые сковывались действиями наших подводных лодок, мы неизменно приходили к заключению, что "подводную войну необходимо продолжать всеми имеющимися средствами. Как ни горько, но приходилось мириться с потерями, даже в случае если в настоящий момент они не оправдывали достигнутых результатов"."Как видно из донесений командиров подводных лодок, агентурных данных и сведений радиоразведки, до настоящего времени сковывать силы противника удавалось. Число самолетов, участвующих в охранении авианосцев и входящих в состав воздушного охранения конвоев и корабельных противолодочных групп, не только не снизилось, но даже возросло.
Для подводников особо тяжелыми являются действия, основная цель которых — сковывание сил противника. Больше чем в каком-либо ином роде оружия, успех подводной лодки являлся до сих пор личной заслугой всей ее команды и стимулировал поднятие наступательного духа, выносливости и упорства в боевых действиях. В настоящее время шансы на успех невелики, возможность же, что лодка из боевого похода не возвратится, становится все более вероятной, так как за последние месяцы возвращалось в среднем только 70 процентов лодок, выходивших в течение месяца на выполнение боевых заданий."
Другого оружия, которое могло бы сковать такие же силы противника, помимо подводных лодок, не было.
Но для эффективной борьбы нужна была подводная лодка, не требовавшая всплытия для зарядки аккумуляторных батарей, обладающая более высокой скоростью подводного хода и обеспечивающая возможность длительного нахождения личного состава лодки под водой. Единственным утешением для нас было сознание того, что такая лодка уже создана и что недалек день, когда она войдет в состав подводных сил.
Весной 1944 года были оборудованы "шноркелем" первые боевые лодки старого типа, что позволяло производить зарядку аккумуляторов и вентиляцию внутренних помещений под водой. Все это давало возможность рассчитывать, что в будущем подводным лодкам нового типа вообще не потребуется в ходе боевых действий всплывать на поверхность. В конце мая были устранены основные недостатки нового устройства и приобретен известный опыт его использования.
В этот же период, накануне вторжения во Францию, командованию подводных сил предстояло принять тяжелое решение о направлении подводных лодок в Па-де-Кале и Ла-Манш. Возникал вопрос: допустимо ли посылать лодки в эти мелководные районы, где непрерывно патрулируют сотни различных сторожевых кораблей и самолеты противника? Смогут ли лодки вообще действовать в проливах и возможно ли рассчитывать на такие успехи, которые оправдывали бы направление туда значительного числа подводных лодок?
С 1940 года мы не вели боевых действий в таких мелководных районах, как у побережья Англии. Теперь с оборудованием лодок "шноркелем" действия в подобных условиях становились возможными. Но в продолжение всего похода, то есть в течение нескольких недель, лодкам приходилось оставаться под водой. Выдержат ли подводники такое чрезмерно сильное физическое и психическое напряжение? Смогут ли они регулярно пользоваться "шноркелем" в условиях столь сильного охранения?
При рассмотрении всего комплекса вопросов выявилось еще одно обстоятельство, которое затруднило принятие окончательного решения. Положение осложнялось тем, что во время нахождения лодок в районе вторжения они не могли поддерживать радиосвязь с командованием. Поэтому обстановку в районе боевых действий частично можно было уточнять только с помощью случайно перехваченных радиограмм противника. Личные доклады командиров можно было рассчитывать получить только через несколько недель после возвращения лодок из боевого похода.
Однако от результатов вторжения, успеха его или неудачи в решающей степени зависел весь дальнейший ход войны.
Подводная лодка являлась как раз тем средством, которое, действуя в качестве отдельной боевой единицы с небольшим числом личного состава на борту, способно было внести довольно большой вклад в общий военный успех. Такой успех достигался даже в том случае, если подводной лодке ценой собственной гибели удавалось потопить хотя бы один транспорт противника, груженый боеприпасами, танками или другим военным грузом. В самом деле, какое количество жизней пришлось бы принести в жертву, сколько материальных ценностей и средств потребовалось бы израсходовать, чтобы уничтожить или вывести из строя такое же количество боевых средств противника! Я пережил тяжелую внутреннюю борьбу, прежде чем принял окончательное решение. В конце концов я все же пришел к заключению о необходимости участия подводного флота в боевых действиях в случае англо-американского вторжения.
И когда 6 июня 1944 года это вторжение началось, первые подводные лодки уже входили в бухту Сены. Я обратился тогда к подводникам со следующим приказом:
И вот наступили недели самых напряженных действий за все время подводной войны. Возвращавшиеся из боевых походов командиры докладывали о достигнутых успехах, и это заставляло продолжать использование подводных лодок."Любое судно противника, принимающее участие в высадке десанта, даже если оно перевозит всего полсотни солдат или хотя бы один танк, является объектом, для уничтожения которого подводная лодка должна принять все возможные меры. Такое судно необходимо атаковать, не считаясь с возможностью собственной гибели. Если придется встретиться с десантными кораблями и судами, нельзя считаться с опасностями действия в условиях мелководья, наличия минных заграждений или каких-либо других осложнении. Каждый солдат противника. уничтоженный до высадки десанта, снижает возможности выполнения противником задуманного плана.
Подводную лодку, которая сумела нанести ущерб противнику в десантной операции, следует считать выполнившей свой высокий долг и оправдавшей свое назначение даже в том случае, если она при этом погибнет."
В конце концов лично я не выдержал того напряжения, которое продолжали нести подводники. Неуверенность в судьбе лодок, участвовавших в боевых действиях, а также опасения, что противник будет применять все более совершенные средства противолодочной обороны в масштабе, при котором дальнейшее участие подводных лодок уже не оправдается, заставили меня 24 и 26 августа приказать всем лодкам, еще находившимся в районе Сены, возвратиться в базы.
Каковы же общие результаты действий подводах лодок в районе вторжения противника за период с 1 нюня по конец августа 1944 года?
Всего в разное время здесь действовало 30 подводных лодок, оборудованных "шноркелем". Они приняли участие в 45 боевых походах против десантные сил противника. Мы потеряли из этого числа 20 лодок.
По английским данным, подводные лодки потопили пять кораблей охранения, 12 судов общим тоннажем 56 845 рег.-бр. тонн, четыре десантных корабля общим водоизмещением 8 404 тонны. На мине, поставленном подводной лодкой, подорвалась и затонуло еще одно судно. По английским же данным, были повреждены корабль охранения, пять судов общим тоннажем 36 800 рег.-бр. тонн и десантное судно. Подорвались на минах, поставленных подводными лодками, и получили повреждения два судна.
Все потопленные суда имели на борту военное имущество. Чтобы представить себе, в чем именно могли выражаться уничтоженные материальные средства, можно обратиться к справочнику по подготовке личного состава авиации США. В нем говорится, что "если подводная лодка потопит два судна на 6 000 тонн каждое и один танкер в 3 000 тонн, то можно считать, что при этом погибло 42 танка, 8 152-мм гаубиц, 88 87,6-мм орудий, 40 40-мм орудий, 24 автобронемашины, 50 пулеметов крупного калибра, 5 210 тонн боеприпасов, 600 винтовок, 428 тонн запасных частей для танков, 2 000 тонн разных продуктов и предметов снабжения, 1 000 канистр бензина.
Во что вылились бы боевые действия, если бы суда доставили эти грузы в порт выгрузки? Для уничтожения этого военного имущества силами бомбардировочной авиации противнику потребовалось бы совершить 3 000 налетов" (Training Manual prepared by Airasdevlant, Naval, Air Station, Quonset Point, Rhode Island).
В связи с этим я возвращаюсь к прошлому и сужу о действиях подводных лодок в районе вторжения по записям в моем "Журнале боевых действий":
В результате высадки десантов в районе Авранша 4 августа 1944 года наши подводные лодки потеряли возможность использовать опорные пункты на побережье Бискайского залива. Поэтому с конца августа до конца сентября 1944 года лодки стали постепенно переразвертываться в норвежские воды."Закончились действия лодок в проливах Ла-Манш и Па-де-Кале. Эти действия свидетельствуют о том, что, несмотря на опасения и сомнения в целесообразности привлечения подводных лодок к участию в борьбе с силами вторжения, это решение было правильным. В исключительно тяжелых условиях лодки добились хороших результатов, потребовавших, правда, тяжелых, но все же терпимых жертв. Подводные лодки наносили противнику если не решающие, то во всяком случае чувствительные удары по системе снабжения и подвоза, облегчая тем самым армейским частям борьбу с высадившимся десантом." ("Журнал боевых действий штаба подводных сил", 15 сентября 1944 года)
Еще 1 июня 1944 года я дал указание, чтобы впредь ни одна подводная лодка без "шноркеля" не направлялась в Атлантический океан. С того времени впервые после 1940 года они вновь стали появляться у английского побережья. Границы оперативных районов в сторону открытого моря командованием не ограничивались. По этому поводу в "Журнале боевых действий штаба командующего подводными силами" имеется следующая запись от 11 сентября 1944 года:
Первое донесение, поступившее от лодки, действовавшей в таких условиях, оказалось весьма благоприятным. "U-482" в проливе Норт-Чаннел к северу от Ирландии потопила корвет "Херст Касл" и четыре транспорта общим тоннажем 31 610 рег.-бр. тонн."Все лодки получили приказ действовать в зависимости от состояния противолодочной обороны противника в западной или восточной части своих секторов. Границы в восточной части указываются ориентировочно. Командование учитывает, что боевые действия лодок в основном в подводном положении и активные меры обороны со стороны противника вызывают большое напряжение у всего личного состава, особенно у молодого пополнения. Поэтому командирам лодок, действующим в непосредственной близости от побережья противника, вновь рекомендуется самостоятельно решать вопрос о необходимости временного или окончательного отхода (отход использовать для донесения обстановки!) и возвращения в базу до израсходования топлива и торпед в зависимости от состояния противолодочной обороны или степени переутомления команды."
Дальнейшее использование подводных лодок в непосредственной близости от побережья в Ирландском море, в западной части пролива Ла-Манш и вблизи Шербура было также удачным. В свою очередь "U-1232" потопила около Галифакса (Канада) из состава двух конвоев четыре судна общим тоннажем 24 331 рег-бр. тонн и атаковала торпедами судно тоннажем 2 373 рег.-бр. тонн. "U-870", находившаяся западнее Гибралтара, действовала также успешно.
В результате до конца января 1945 года мы считали, что благодаря "шноркелю" даже лодки старых серий вновь обрели боеспособность. Успехи подводных лодок, последние три месяца находившихся в операционных зонах, соответствовали успехам, достигнутым в августе 1942 года. Однако в отношении экономического эффекта в боевом использовании лодок выявилось весьма существенное расхождение. Раньше из каждых 100 суток подводные лодки находились в море 60 суток, причем 40 суток из них они проводили непосредственно в районах боевых действий. К декабрю 1944 года сложилось неблагоприятное соотношение между временем нахождения лодок в базах и временем пребывания их в море. Утрата расположенных на побережье Бискайского залива опорных пунктов и судоремонтных предприятий, длительность перехода лодок из дальних баз в районы боевых действий и, наконец, следование их в подводном положении под "шноркелем" на малой скорости — все это привело к тому, что лодки находились в море в среднем всего 37 суток и из них только 9 суток действовали в назначенных им зонах. Поэтому абсолютное число потопленных судов было значительно ниже показателей 1942 года. Положение могло улучшиться только при условии ввода в строй лодок новой серии, могущих развивать под водой большую скорость хода.
Самым отрадным за последние месяцы было то, что в январе 1945 года потери ц лодках значительно снизились: они составляли 10,4 процента по отношению к находившимся в море подводным лодкам, следовательно, едва ли превышали потери, имевшиеся во второй половине 1942 года, и были ниже, чем в 1940 и 1941 годах.
Таким образом, благодаря положительным результатам, достигнутым с помощью "шноркеля", борьба в прибрежных зонах противника, имевшая целью сковать действия врага, вновь приобрела наступательный характер.
При этом выяснилось, что нахождение подводных лодок в мелководных районах, вблизи разнообразного по очертаниям побережья, в зонах перемежающихся отливов и приливов имеет даже известные преимущества, так как в таких условиях обнаружение лодки гидроакустическими средствами сторожевых кораблей весьма затрудняется.
Когда лодки направлялись в мелководные районы, командирам особо указывали на то, что их тактика должна резко отличаться от обычной. Они должны были по возможности действовать не так, как рассчитывал противник. Например, выход в атаку рекомендовалось производить не со стороны открытого моря, то есть с глубоких мест, а, наоборот, с более мелкой прибрежной стороны. Советовали также после атаки уходить по возможности в сторону берега.
Учитывая благоприятные результаты и относительно небольшие потери, командование подводных сил в январе 1945 года вынесло решение о направлении к побережью противника также тех лодок, которые должны были вступить в строй в феврале.
Принять такое решение было нелегко. Противник, конечно, мог и должен был усилить в своих водах противолодочную оборону. Лодки практически почти полностью лишались возможности пользоваться радиосвязью. Это приводило к тому, что командование узнавало о судьбе подводной лодки и обстановке в районе ее действий не через 7-14 дней, как это было раньше, а спустя много недель, то есть когда обстановка становилась совершенно иной. Поступавшие сведения часто сильно запаздывали, и командование не могло своевременно реагировать на те или иные события.
Вместе с тем нельзя было не считаться с тем, что каждый уничтоженный у английского побережья транспорт с военным грузом, который следовал во Францию или в устье реки Шельды, являлся ударом по противнику, облегчавшим нашим войскам ведение борьбы на суше.
Задача подводных лодок заключалась также в том, чтобы своими действиями сковывать легкие боевые корабли противника у побережья Англии и лишать их возможности участвовать в нарушении нашего каботажного судоходства в Северном море, в проливе Скагеррак и на морских путях вдоль Норвегии. Осуществление этой задачи начиная с конца ноября 1944 года позволило беспрепятственно ходить в этих районах большому числу немецких судов, совершавших перевозки подкреплений для фронтов а Германии.
Командиры подводных лодок, возвращавшихся в феврале и начале марта 1945 года, доносили об успешных действиях лодок. Это обстоятельство довольно убедительно подтверждало правильность принятого в январе решения о продолжении боевых действий в прибрежных водах Англии.
Но вскоре в том же месяце мы снова стали беспокоиться за судьбу лодок, в связи с тем что в перехваченных радиосообщениях противника не содержалось решительно никаких сведений о действиях немецких подводных лодок. И вот вместо ожидавшихся положительных известий 13 марта 1945 года от "U-230" поступило радиодонесение, что на глубине 80 метров, в 20 метрах над грунтом, она подорвалась на мине н получила тяжелые повреждения. Командир успел радировать, что личный состав вышел из лодки и пытается добраться до берегов Ирландии.
Не оставалось сомнений, что против немецких подводных лодок английское командование начало использовать мины, которые ставились на значительной глубине. Командование подводных сил еще раньше учитывало такую возможность и в октябре 1944 года указывало командирам лодок, что необходимо следовать в подводном положении, на глубине в пределах от 15 до 30 метров, так как на такой глубине противник едва ли будет ставить мины из-за опасности, возникающей для его собственного судоходства.
Отсутствие сведений о действиях наших лодок и радиограмма "U-230" побудили нас приказать командирам подводных лодок покинуть прибрежные воды в случае слишком активной деятельности противолодочной обороны противника и возвратиться в базу.
До самой капитуляции мы почти ничего не знали о результатах действий отдельных лодок и последних мероприятиях противника в области противолодочной обороны. О постигшей нас тяжелой неудаче мы узнали лишь после окончания войны. Если в январе погибло шесть лодок, то в апреле 1945 года наши потери составили 29 подводных кораблей. Причины, вызвавшие столь резкий рост потерь, станут понятными лишь после того, как будут опубликованы официальные английские материалы за этот период.
В последние недели войны все сильнее чувствовались удары авиации союзников по немецким портам. Они наносились также в прибрежных волах и причиняли весьма значительные потери на продолжавшей сокращаться территории Германии.
За время испытаний лодок ХХI и ХХIII серий и подготовки личного состава выявились неполадки технического характера, которые были вполне естественными, учитывая, что приходилось осваивать новые типы лодок, создававшиеся на основе собственного опыта. Выявленные неполадки задерживали подготовку команд и испытания, однако полученные в конце концов результаты оказались весьма удовлетворительными. Наивысшая подводная скорость хода лодки ХХI серии составляла 17,5 узлов, экономическая скорость, достигавшая пяти с половиной узлов, была также велика, причем лодка следовала почти бесшумно. Радиус действия лодки этой серии был таков, что она могла заходить во все районы Атлантического океана и доходить, например, до Кейптауна, оставаться там и участвовать в боевых действиях три — четыре недели, а затем без пополнения топлива возвратиться в базу. Оснащенные новой техникой, эти лодки, пользуясь новыми приемами стрельбы, имели возможность устанавливать точные исходные данные цели и использовать торпеды, находясь под водой на глубине 50 метров. Такими же качествами обладали и лодки ХХIII серии, хотя их предельная подводная скорость и радиус действия были меньше.
С созданием лодок ХХI и ХХIII серий устранялись преимущества, которыми с 1943 года обладала противолодочная оборона противника, причем одной из основных опасностей для лодок являлась возможность обнаружения ее при нахождении в надводном положении. Оставаясь защищенной от средств обнаружения при нахождении под водой, лодка маневрировала на глубине и выходила в атаку в подводном положении. Теперь открывались новые перспективы использования лодок и представлялись возможности достижения в недалеком будущем новых успехов.
На протяжении последних двух лет войны в Англии напряженно следили за созданием усовершенствованных серий немецких подводных лодок. В феврале 1945 года на Ялтинской конференции представители Англии ставили вопрос о том, чтобы русские возможно быстрее заняли Данциг (Гдыню), так как там на верфях якобы строилось 30 процентов новых немецких лодок. "Авиации и надводному флоту союзников будет очень трудно бороться против подводных лодок новых серий, так как они обладают высокой скоростью хода под водой и оснащены новейшей техникой" (Die offizielen Jalta-Dokumente des U.S. State Department, deutshe Ausgabe, Seite 60, 62,63,67 auch 69).
В заключительной части отчета, представленной начальниками штабов союзных армий президенту Рузвельту и премьер-министру Черчиллю на Ялтинской конференции, говорилось:
"...7. Возможность того, что немецкие подводные лодки снова создадут серьезную опасность для союзного судоходства в Северной Атлантике, вызывает сильное беспокойство. Еще рано судить о том, насколько такая активность окажется действенной, а потому мы предлагаем; обсудить этот вопрос еще раз 1 апреля 1945 года.
8. Между тем мы договорились о проведении следующих контрмероприятий:
А. Увеличить, насколько практически это окажется возможным, число кораблей и самолетов противолодочной обороны.
Б. Продолжать и, по возможности, усиливать бомбардировку верфей, сосредоточивая, по возможности, особое внимание на Гамбурге и Бремене.
В. Продолжать действия против опорных пунктов и быть в готовности усилить эти действия.
Г. Повысить из 10 процентов применение против подводных лодок авиационных мин, включая расход мин на учебных полигонах.
Д. За пределами указанных в пункте "1" районов постановку мин производить надводными кораблями и авианосной авиацией.
Е. Повысить активность действий против тральщиков противника.
Ж. Продолжать и усилить действия против судов противника, используемых для снабжения баз подводных лодок" (Die offizielen Jalta-Dokumente des U.S. State Department, deutshe Ausgabe, Seite 245-247).
В результате продолжавших усиливаться воздушных бомбардировок Германии выпуск первых подводных лодок ХХIII серии задержался и осуществился лишь в феврале. Первая лодка ХХI серии могла вступить в строй не раньше апреля 1945 года.
Подводные лодки XXIII серии добивались хороших успехов в непосредственной близости от английского восточного побережья. Так, например, "U-2336" проникла в залив Ферт-оф-Форт и потопила юго-восточнее острова Мей два судна. Командиры отзывались о лодках ХХIII серии следующим образом:
"Это — идеальная лодка для непродолжительных действий вблизи побережья. Она быстроходна, обладает хорошей маневренностью, проста в управлении. Незначительные размеры лодки затрудняют возможность обнаружения и поражения ее противником. Он может лишь предполагать о присутствии лодки, Но установить точно ее местонахождение трудно."
В ходе практического использования лодки ХХIII серии выявилась заниженность теоретических выводов. Так, предполагалось, что максимальная продолжительность пребывания подводной лодки ХХIII серии в море составит две-три недели. Между тем "U-2321" находилась в море 33 суток, что превысило теоретические предположения почти вдвое.
Ни одна из восьми лодок ХХIII серии, действовавших в прибрежных водах противника, не погибла.
Первая лодка ХХI серии — "U-2511" вышла в первый боевой поход из Бергена 30 апреля 1945 года. По словам командира лодки, она показала себя с отличной стороны как в условиях атаки, так и в условиях обороны и представляла для подводников нечто совершенно новое.
4 мая 1945 года в соответствии с принятым мною решением о прекращении военных действий все подводные лодки получили приказ, запрещавший атаковать суда.
ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО МОРСКОМУ СУДОХОДСТВУ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, 1938 год (DMS), книга 40, стр. 88
Донесения о противнике
Как только капитан торгового судна установит, что замеченный им корабль или самолет принадлежит противнику, он обязан немедленно донести о характере и местонахождении этого корабля или самолета по радио. Своевременная передача такого донесения может обеспечить безопасность не только данного торгового судна, но и многих других, поскольку создается возможность уничтожить корабль или самолет противника кораблями или самолетами. Следует учитывать, что подобная возможность предоставляется не всегда. Порядок передачи донесений о встрече с противником и подачи сигналов бедствия изложен в главе 6 (часть II). Капитаны торговых судов и их экипажи должны знать требования, изложенные в данной главе.
Значение донесений
А. О значении, которое имеет своевременная передача одиночными торговыми судами донесений по радио об обнаружении и месте кораблей и самолетов противника, говорится в главе 3 (часть I). Эти данные могут представляться в "донесениях о противнике" или в "сигналах бедствия" — в зависимости от обстановки.
Б. "Донесения о противнике" и "сигналы бедствия" передаются по личному приказанию капитана судна или первого помощника капитана.
В. Очень важно передать эти донесения как можно быстрее. Поблизости может находиться свой военный корабль, н своевременное получение им донесения позволит спасти другие суда или навязать противнику бой с нашим кораблем.
Условия открытия огня
А. Открытие огня по противнику, действующему в соответствии с международным правом.
Поскольку на торговых судах вооружение предназначается исключнтельно для самообороны, оно должно использоваться только тогда, когда абсолютно очевидно намерение противника захватить или потопить данное торговое судно. Следует исходить из того, что с началом войны противник будет действовать, соблюдая нормы международного права, и поэтому огонь по противнику нельзя открывать, пока не будет очевидным его намерение захватить данное торговое судно. Вместе с тем огонь должен быть открыт немедленно, если очевидно, что сопротивление необходимо, чтобы избежать захвата судна противником.
Б. Открытие огня по противнику, нарушающему международное право.
Если в ходе войны становится очевидным, что противник не считается с нормами международного права, нападая на торговые суда без предупреждения, то разрешается открывать огонь по надводному кораблю, подводной лодке или самолету противника, прежде чем торговое судно подвергнется нападению, если открытие огня торговым судном помешает противнику занять выгодную для нападения позицию.
Порядок действий в случае нападения всплывшей подводной лодки противника:
А. Общие положения.
Торговое судно не должно ни в коем случае сдаваться подводной лодке противника без сопротивления. Решительная попытка торгового судна уйти от преследования вполне может увенчаться успехом.
Б. ...
IV. Торговые суда, имеющие вооружение, должны открыть огонь по противнику, препятствуя его сближению с торговым судном, чтобы захватить его или лишить возможности уйти от преследования. Огонь должен быть открыт торговым судном также в том случае, если противник первым применил оружие.
* * *
ВЫДЕРЖКА ИЗ "ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ШТАБА КОМАНДУЮЩЕГО ПОДВОДНЫМИ СИЛАМИ"
21 января 1940 года
На основании произведенных опытных стрельб торпедами "123", взрыватели которых отказывали, и магнитных исследований торпед, хранящихся на складах, главный инспектор торпедного оружия флота считает отказы взрывателей торпед возможными. С самого начала войны недоверие к торпедам было вызвано тем, что значительное число торпед (главное оружие подводных лодок) оказалось непригодным в боевых условиях. Не менее чем в 25 процентах всех случаев торпеды не срабатывали. Из всех произведенных б января выстрелов 40,9 процента оказались безрезультатными из-за отказов взрывателей торпед. В эти данные не включены безрезультатные выстрелы за первые три месяца войны, так как тогда еще не предполагали возможности отказа взрывателей, н неудачи относили за счет промахов.
Затяжная и довольно часто менявшаяся по форме борьба за устранение неполадок с торпедами протекала в следующих условиях:
1. В августе 1939 года, перед выходом подводных лодок, состоялось совещание в экспериментальном торпедном институте германского флота. На совещании обсуждалось выраженное командующим подводными силами сомнение в надежности действия взрывателя. Начальник экспериментального института нашел, что эти сомнения необоснованны.
2. 14 сентября подводная лодка "U-29" донесла по радио о двух случаях, когда взрыватели срабатывали преждевременно. Главный инспектор торпедного оружия пытался объяснить это неправильным определением подводными лодками своего места в море (30-60 морских миль). Подобное утверждение я отвергаю. Главный инспектор торпедного оружия предложил впредь устанавливать взрыватели на две зоны ниже, чтобы понизить их чувствительность. Однако это приводило к тому, что против судов менее 3 000 рег.-бр. тонн надо было действовать торпедами с ударными взрывателями, так как небольшое магнитное поле цели в этом случае не позволяло рассчитывать на безотказность магнитного взрывателя. 14 сентября командирам подводных лодок были даны соответствующие указания командующего подводными силами.
3. Неполадки все еще не устранены. Поступают новые донесения о преждевременном срабатывании взрывателей. "U-27" донесла даже о получении лодкой повреждений из-за детонации. До выяснения причин неполадок было предложено снабжать взрыватели торпед контактным устройством типа "А", позволяющим выключать магнитный взрыватель.
4. После введения контактного устройства типа "А" командующий подводными силами 2 октября издал приказ, требующий впредь вести стрельбу торпедами с ударным взрывателем.
Благодаря этому временно устранялась опасность из-за преждевременного срабатывания взрывателей. Проведение этого мероприятия было необходимо для обеспечения безопасности лодок до окончательного выяснения причин преждевременного действия взрывателей.
5. В начале октября главный инспектор торпедного оружия сообщил, что причиной преждевременного действия взрывателя "G7е" является неудачное расположение проводов. Так как в настоящее время провода размещаются иначе, взрывателями "G7е" можно снова пользоваться для стрельбы с установкой торпеды на глубину, превышающую осадку цели. Преждевременное действие взрывателя "G7а" торпедный инспектор объясняет посторонним механическим воздействием. Поэтому от употребления взрывателя "G7а" следует воздержаться до выяснения вопроса о возможности применения его для стрельбы с установкой торпеды на глубину, превышающую осадку цели.
Я выразил сомнение и беспокойство по поводу столь различных объяснений причин неполадок. По после заверений торпедного инспектора, что взрыватели типа "G7e" теперь надежны, разрешил для проверки пользоваться взрывателями типа "G7e" при стрельбе с установкой торпеды на глубину, превышающую осадку цели.
6. 18 октября "U-46" донесла, что при атаке конвоя торпеда со взрывателем "G7е" сработала преждевременно. Это доказывало, что, несмотря на изменения, взрыватели "G7е" все еще ненадежны. Поэтому я снова приказал при стрельбе торпедами с взрывателями "G7е" использовать ударный взрыватель и отключать магнитный (устройство "А").
Таким образом, мы вернулись к положению, существовавшему в 1914-1918 годах. Но я вынужден был отказаться от использования магнитных взрывателей, преимущества которых так часто превозносят. Это было сделано для того, чтобы избежать потерь из-за несовершенства боевых средств, а также для устранения причины неуспеха подводных лодок (в то время единственной причиной неуспеха считалось преждевременное срабатывание взрывателя).
7. 20 октября торпедный инспектор доложил, что торпеды ("G7a" и "G7e") подходят к пели на глубине на два метра ниже заданной. Многочисленные донесения командиров подводных лодок об отказах ударных взрывателей, несмотря на точные расчетные данные стрельбы, давали основание предполагать, что торпеды идут к цели на глубине ниже заданной и потому проходят под килем судна. Так выявилась новая и весьма серьезная причина отказов при стрельбе торпедами с ударными взрывателями. Во избежание безрезультатных атак из-за движения торпед на глубине ниже заданной, 20 октября я приказал при стрельбе торпедами с ударными взрывателями устанавливать глубину хода торпеды не более четырех метров. По предложению торпедного инспектора я дополнил приказ указанием устанавливать торпеду на глубину хода на два метра меньшую, чем осадка судна-цели. Но чтобы торпеда не выскакивала на поверхность, наименьшая глубина ее хода должна быть не ниже трех метров, а в условиях характерной для Атлантики мертвой зыби — не ниже четырех метров. Таким образом, исключается возможность стрельбы по целям с осадкой меньше пяти-шести метров, то есть исключается возможность, например, атаки эскадренных миноносцев.
8. 23 октября на совещании, состоявшемся в Вильгельмехафене у командующего подводными силами с участием главного инспектора торпедного оружия, а также начальников экспериментального торпедного института и торпедно-испытательной станции, участники его договорились о нижеследующем:
а) необходимо учитывать обнаружившиеся значительные отклонения торпед от заданной глубины в значительно большей степени, чем это принималось в расчет до последнего времени;
в) причина преждевременного срабатывания взрывателей еще не установлена;
с) необходимо устранить по меньшей мере возможности самопроизвольного действия взрывателя в конце хода торпеды.
Все это свидетельствует о том, что возможности использования торпедного оружия сильно ограничены, так как при ударных взрывателях существовала опасность прохождения торпеды ниже заданной глубины, а при магнитных взрывателях — опасность их преждевременного срабатывания.
9. 5 ноября промышленность предложила новый (комбинированный) взрыватель ударного и магнитного действия Рi (А + В). Надеются, что он устранит неполадки благодаря стабилизации магнитной стрелки. С принятием его на вооружение мы снова вернемся к использованию магнитных взрывателей. Для определения глубины хода торпеды даются указания устанавливать ее, исходя из осадки цели плюс один метр. К сожалению, при повышенном ходе торпеды не разрешается использование взрывателя "G7a" из-за трудностей, связанных с механическими свойствами взрывателя. Теперь все надежды возлагаем на новый взрыватель. В связи с этим продолжающие поступать сообщения о случаях отказа взрывателей не представляются столь существенными.
10. 8 и 9 ноября вышли в море "U-28U и "U-49" — первые подводные лодки, торпеды которых были снабжены комбинированными взрывателями.
19 ноября "U-49" донесла о преждевременном срабатывании взрывателя "G7а", несработавшем взрывателе "G7е" и о детонации "G7а" в 200 метрах.
Это донесение разрушило наши самые радужные надежды. Никакого улучшения положения, следовательно, достигнуто не было. Поступают новые донесения командиров других подводных лодок о преждевременных срабатываниях взрывателей и отказах.
После объяснений с торпедным инспектором, который продолжает верить в надежность взрывателей при установке торпеды на глубину хода, превышающую осадку цели, я также склонен пока считать недоказанной возможность отказа взрывателя. Имеющие место случаи преждевременного срабатывания взрывателей, очевидно, следует отнести за счет механических воздействий на взрыватель в условиях неспокойного моря.
Возможность отказов взрывателей пытаюсь устранить тем, что даю указания о стрельбе при спокойном море, а также об установке хода торпед на большую глубину. По согласованию с торпедным инспектором даю указание при плохой погоде устанавливать торпеды на большую глубину и делаю ссылку на указанный в технической инструкции радиус действия взрывателя.
11. Продолжают поступать новые донесения о преждевременном срабатывании взрывателей и их отказах. Некоторые специалисты по торпедному оружию для устранения неполадок предлагают сократить чувствительность взрывателя путем установления более низких зон (на две зоны ниже против зональной карты). Рассчитывают, что при установке на глубину, равную осадке цели, торпеда будет проходить ближе к судну и силовое (магнитное) поле, создаваемое его корпусом, сможет оказать более сильное влияние на комбинированный взрыватель, несмотря на его малую чувствительность. Я категорически возражал против действий по этому методу, так как в таком случае снова пришлось бы ставить стрельбу торпедами в полную зависимость от состояния моря и воздействия волн, причем не была бы устранена опасность преждевременного срабатывания взрывателей. Главный инспектор торпедного оружия и многие специалисты согласились со мной. Итак, мой прежний приказ остался в силе.
12. Небольшие изменения в комбинированном взрывателе (изоляция медного кожуха, полировка фрикционного диска) положительных результатов не дали. Иногда как будто бы число случаев преждевременного срабатывания взрывателей уменьшается. Возлагаются надежды на дальнейшие доделки взрывателя, а пока приходится придерживаться принципа установки торпеды на глубину, превышающую осадку цели, так как при использовании ударных взрывателей торпеды проходят под килем судна-цели и атаки оказываются безрезультатными.
13. Все чаще поступают донесения об отказах взрывателей при выстрелах, произведенных по точно установленным исходным данным. Торпедный инспектор по-прежнему убежден в безусловной надежности комбинированного взрывателя. Предлагаю ему исследовать причины отказов торпед во всех тех случаях, когда командиры подводных лодок относят неудачи за счет отказа взрывателя. Инспектор считает, что неудачи следует приписать промахам при стрельбе. Не могу согласиться с таким толкованием неудач, учитывая большое количество донесений о безрезультатности выстрелов. Во многих случаях считаю безусловно доказанным, что комбинированные взрыватели не срабатывают. Я сказал об этом 19 января на совещании с представителями торпедно-испытательной станции.
14. Опытной стрельбой торпедами "123" установлено, что многие взрыватели при установке торпеды на глубину хода, превышающую осадку цели, действительно не срабатывают. Торпедный инспектор наконец признал возможность отказов и представил следующие соображения для сообщения их командирам подводных лодок:
1. Но целям водоизмещением менее 4 000 тонн, эскадренным миноносцам и всплывшим подводным лодкам устанавливать торпеды на глубину 4 метра.
2. При стрельбе по целям водоизмещением менее 1 000 тонн следует считаться с возможностью отказа взрывателя.
3. При всех остальных целях — установка торпед на глубину осадки судна-цели плюс один метр (также и при плохой погоде).
Эти указания создавали условия более близкого подхода торпеды к цели, а следовательно, и к магнитному полю цели, действующему на взрыватель.
Однако стрельба в условиях неспокойного моря создает предпосылки для явных неудач.
15. Помимо опытной стрельбы торпедами "123", определившей отрицательные стороны взрывателя, была произведена также проверка магнитных свойств корпуса торпеды и ее аккумуляторного отделения. Проверка показала, что они, правда не всегда в одинаковой и устойчивой степени, намагничены, и это может сказываться на действии взрывателя. Поэтому хранящиеся на складах торпеды подлежат размагничиванию. Торпедный инспектор сомневается в успехе этого мероприятия.
Итак, причины неполадок нам все еще неизвестны.
16. Доверие командиров н личного состава подводных лодок к торпедному оружию подорвано в значительной степени. Тем не менее подводные лодки, несмотря на сильную оборону противника, продолжают вести торпедные атаки. Но они терпят лишь неудачи. По самым скромным подсчетам, общий тоннаж судов противника, избежавших гибели из-за несработавших торпед, составляет 300 000 рег.-бр. тонн. Я уверен, что н выстрел "U-47" по крейсеру типа "Лондон" оказался неудачным именно из-за преждевременного срабатывания взрывателя. Командование подводных сил и командиры лодок очень огорчены тем, что, несмотря на основательную предвоенную подготовку, главное оружие подводных лодок не дало тех результатов, которые можно было бы ожидать. Однако мы обязаны продолжать торпедные атаки, чтобы выявить причины неполадок и ликвидировать их. Доверие командиров и личного состава подводных лодок к торпеде постепенно может быть восстановлено лишь при условии улучшения технической части этого оружия.
Берлин, 9 февраля 1942 года
Совершенно секретно
Главнокомандующий военно-морскими силами
В № 83/а42
(По адресам согласно списку)
По вопросу: РАССЛЕДОВАНИЕ НЕПОЛАДОК В ТОРПЕДАХ
К директиве ГВМС № 2864/40 секр. 11.VI.40
1. Как известно офицерскому корпусу, в первые месяцы войны имели место случаи отказов торпед, что временно в значительной мере поколебало доверие к этому оружию и отразилось на боевых действиях подводного флота, лишив командование столь необходимых успехов в подводной войне.
Недостатки торпед выражались в следующем:
1. Вследствие установки торпед на слишком большую глубину хода они проходили под килем цели. В результате ни ударные, ни магнитные взрыватели не срабатывали.
2. Магнитная часть взрывателя была чувствительна к вибрации, создающейся на ходу торпеды. Имели место самопроизвольные срабатывания взрывателей, большей частью преждевременные. Вследствие таких недостатков торпедные атаки оказывались безрезультатными, создавая одновременно угрозу для атакующей лодки. Кроме того, противнику удалось узнать о наличии магнитных взрывателей и своевременно принять соответствующие меры, а затем успешно провести размагничивание судов и кораблей.
3. Несмотря на то, что взрыватель торпеды конструировался из расчета действия при угле встречи свыше 21 градуса, фактически надежное действие взрывателя, как удалось определить лишь после выяснения причин отказов в боевых условиях, происходило только при угле встречи более 50 градусов.
Эти недостатки удалось выявить лишь постепенно, так как определение их причин крайне осложнялось тем обстоятельством, что отказы взрывателя были связаны также с нарушением торпедой заданной глубины хода.
Все это вело к многочисленным, постоянно менявшимся указаниям руководства о применения торпед, что вызывало нервозность у личного состава. Не представляется возможным статистически точно установить, насколько серьезную роль сыграли все эти недостатки с начала войны до конца норвежской операции. Достаточно сказать, что случаи отказов торпед за первые восемь месяцев войны превышали в два, а иногда даже почти в три раза допустимое в среднем расходование боеприпасов.
В директиве № 2864 от 11 июня 1940 года указывалось, насколько серьезно расценивал я эти неполадки. Если причина их — небрежность, допущенная в период создания или испытаний торпед, то я обязан привлечь виновных к ответственности.
Так и случилось.
Имперский военный суд после шестинедельного разбирательства вынес следующее определение по обстоятельствам дела:
1. Сохранение торпедой заданной глубины хода.
Основной причиной того, что торпеды не срабатывали вследствие их ухода на большую против заданной глубину хода, является недостаточная тщательность испытаний способности торпед "G7a" и "G7e" держать заданную глубину хода. Возникновение неполадок относится к периоду, когда торпеды находились еще в стадии создания. Обе торпеды не отвечали предусмотренным допускам и фактически уходили на два-три метра глубже заданной глубины хода. Когда в 1936 году впервые стало известно о нарушении установленной глубины хода, этот факт тщательно не проверили. Особую роль сыграло здесь несовершенство гидростатического прибора. Попытка устранить недостатки оказалась безрезультатной. Существенно неправильным было то обстоятельство, что работы по улучшению н совершенствованию торпед строились в перспективном плане далекого будущего, что не обеспечивало немедленного устранения недостатков. Не приняли надлежащих мер и после последовавшего весной 1939 года специального приказания начальника экспериментального торпедного института. В итоге неисправности, известные в течение нескольких лет, к началу войны остались неустраненными. Ликвидировать их удалось лишь зимой 1939/40 года.
Роковые последствия повлекло за собой то, что в экспериментальном торпедное институте в общем сильно преуменьшали важность сохранения торпедой заданной глубины хода. Даже начальник института считал этот вопрос второстепенным с военной точки зрения. Такое мнение аргументировалось наличием магнитного взрывателя. Но ведь и применение магнитных взрывателей требует, чтобы торпеда точно сохраняла заданную глубину хода. Это необходимо для достижения большего эффекта взрыва торпеды. Кроме того, следовало считаться с ограниченной возможностью использования таких взрывателей при действиях за пределами отечественных вод. В таких условиях в любой момент могло создаться положение, заставляющее прибегнуть к взрывателям ударного действия. Но для этого было чрезвычайно важно, чтобы торпеда шла к цели точно на заданной глубине. Позднее, примерно за год до войны, когда экспериментальному торпедному институту стало известно о разрешении проблемы размагничивания, вопрос обеспечения хода торпеды на заданной глубине представлял собой уже особую заботу. С этого момента пришлось учитывать, что из-за размагничивания судов применение магнитных взрывателей в дальнейшем могло стать нецелесообразным.
2. Магнитная часть взрывателя торпеды.
Правильно сконструированный магнитный взрыватель обладал в основном одним недостатком, выявить который представилось возможным только в условиях боевого применения торпед: имелась опасность самопроизвольного срабатывания взрывателя из-за сотрясения, вызванного движением торпеды. Своевременно не провели опытов с взрывателями "G7a" и "G7e", которые позволили бы устранить влияние на взрыватель сотрясений на ходу торпеды. Взрыватели устанавливались не на торпедах "G7a" и "G7e", а на устаревшей торпеде "G7v", на которой
этот недостаток не выявлялся. Кроме того, причина самопроизвольного срабатывания взрыпдтелей оставалась неизвестной, поскольку систематического изучения материалов экспериментального торпедного института и результатов стрельбы не производилось.
3. Ударная часть взрывателя торпеды.
Неправильное представление об абсолютной надежности ударного взрывателя привело к тому, что механическая часть взрывателя торпед "G7a" п "G7e" до сдачи их флоту проверялась недостаточно. Между тем необходимость этого стала особенно очевидной зимой 1938/39 года, когда возникло серьезное беспокойство по поводу действия ударных взрывателей и стало известно о недостаточности проведенных ранее испытаний.
В заключение констатирую следующее: с помощью работ, осуществленных главной инспекцией торпедного оружия н экспериментальным торпедным институтом, удалось преодолеть кризис и устранить неполадки, послужившие причиной первых неудач. Достигнутые за это время успехи свидетельствовали о ликвидации имевшихся недостатков. Дальнейшее совершенствование и успешное использование торпедного оружия лежит на ответственности
Вильгельмсxафен, 8 сентября 1939 года
Командующий подводным флотом
В № 482
Совершенно секретно
Главному командованию военно-морских сил
По вопросу: ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
К телефонном переговорам адмирала Шнивинда с командующим подводным флотом.
1. Продолжать строительство лодок VIIс и IX серий в соотношении, указанном командующим подводным флотом 1 сентября 1939 года (№ 172/секретно).
2. Не строить малых подводных лодок, так как использование их возможно в основном только в отечественных водах. При этом применение их в ближайшее время на Балтийском море не предвидится, а на Северном море — представляется сомнительным. На Северном море могут действовать подводные лодки VIIс серии; эти же лодки одновременно можно использовать для действий в Атлантике (район Азорских островов).
3. Продолжать строительство лодок Хb серии. Имеются известные перспективы усиленной постановки мни за пределами европейских вод (Кейптаун, Симонстаун, Коломбо, Сингапур; для последний двух портов — подводные лодки-танкеры, см. пункт 6).
4. Продолжать строительство лодок ХI серии. Их главное достоинство состоит в способности оказывать "давление" в удаленных морских районах. Возможности артиллерийского использования сомнительны. Командование подводного флота предлагает за счет сокращения артиллерийского вооружения строить только быстроходные подводные лодки с большой дальностью действия. Такие подводные лодки можно будет использовать в Атлантике во взаимодействии с торпедоносцами. Они могут легче, чем тихоходные лодки, поддерживать и восстанавливать потерянный контакт с конвоем, наводить на цель другие подводные лодки. Следовательно, данную лодку можно использовать и для разведки.
Такие подводные лодки предлагается именовать подводными лодками дальнего действия.
5. Этим устраняется необходимость строительства лодок XII серии, поскольку неизвестно, будет ли эта серия отвечать требованиям в отношении скорости хода и дальности плавания.
Лодка же ХI серии, безусловно, будет отвечать этим требованиям.
6. Строительство трех подводных лодок-танкеров водоизмещением около 2 000 тонн.
Заключение
Возникают следующие соображения относительно очередности строительства подводных лодок:
а) торпедные — VIIc и IX серий;
б) подводные лодки — минные заградители с большой дальностью плавания Xb серия;
в) крупные быстроходные подводные лодки с большой дальностью плавания;
г) подводные лодки-танкеры.
Подпись: Дениц.
Берлин, 22 июля 1943 года
Главнокомандующий военно-морскими силами К.Stb. № 14/930/секретно.
Имперский министр по вооружению и снабжению № 320-2463/секретно
Секретно
СОВМЕСТНЫМ ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЕННО-МОРСКИМИ СИЛАМИ И ИМПЕРСКОГО МИНИСТРА ПО ВООРУЖЕНИЮ И СНАБЖЕНИЮ
По вопросу: ВЫПОЛНЕНИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1943 года
Вопросы обеспечения возросшей потребности в вооружении военно-морского флота и строительство торгового флота требуют самого серьезного внимания и тесного сотрудничества личного состава военно-морского флота, работников имперского комиссара морского судоходства, а также имперского министра по вооружению и снабжению.
В соответствии с этим достигнуты следующие соглашения:
1. Разработка типовых эскизов новых кораблей производится главным командованием военно-морских сил с привлечением в необходимых случаях ученых, конструкторов и специалистов по рекомендации имперского министра по вооружению и снабжению.
2. Для рассмотрения чертежей и вопросов, связанных с созданием новых кораблей, и проведения изменений в имеющихся кораблях при имперском министре по вооружению и снабжению создается комиссия по делам кораблестроения. Комиссия состоит из председателя, назначаемого главнокомандующим военно-морскими силами; шести представителей от ВМС; представителя имперского комиссара морского судоходства; примерно шести ученых, конструкторов и технологов. В комиссию входят также председатель главного комитета кораблестроения, руководитель группы рационализации и технологии отдела министерства по вооружению и снабжению н уполномоченный по торговому судостроению и выполнению плана военно-морского кораблестроения. Шесть членов от ВМС назначаются главнокомандующим ВМС, представитель имперского комиссара морского судоходства — имперским комиссаром, а шесть членов из числа ученых, конструкторов и технологов — имперским министром по вооружению и снабжению. Созыв комиссии производится министром по вооружению и снабжению. Для решения специальных вопросов создаются подкомиссии из представителей примерно в том же соотношении. В случаях когда единое мнение не достигнуто, окончательное решение вопроса производится главнокомандующим ВМС. В отношении же вопросов, входящих в компетенцию торгового флота, окончательное решение предоставляется имперскому комиссару морского судоходства.
3. При имперском министре по вооружению и снабжению образуется главный комитет кораблестроения, на который возлагается руководство по распределению заказов между отдельными верфями и планирование сроков поставок заводами-смежниками. Целью нового органа является в первую очередь обеспечение интересов ВМС и удовлетворение его нужд для ведения войны на море. Поступающие от комиссии по делам кораблестроения эскизы подлежат разработке и конструктивной проверке главным комитетом кораблестроения.
Главный комитет ведает вопросами регулирования оборотных и основных средств судостроительных предприятий, определяет потребность в оборудовании и рабочей силе, а также планирует производство необходимых строительных работ.
Отныне только через главный комитет кораблестроения или, в отдельных случаях, через органы имперского министра по вооружению и снабжению осуществляется загрузка верфей, поставщиков запасных частей и заводов-смежников заказами для нового кораблестроения и ремонтных работ.
Благодаря этим мероприятиям достигается использование для Военно-морского флота необходимых мощностей промышленности и единство в управлении верфями, а также вспомогательными предприятиями для нужд ВМС и морского судоходства.
4. Судостроительная комиссия поручает главному комитету кораблестроения производить проверки, расчеты и подготовительные проектные работы.
5. При выполнении заданий для главного комитета кораблестроения отдельные подразделения управления военного кораблестроения подчиняются имперскому министру по вооружению и снабжению.
6. С установлением указанного разграничения компетенции между главнокомандующим ВМС и имперским министром по вооружению и снабжению вводятся изменения, особенно касающиеся руководства верфями и находящейся там инспекции. Впредь за этими должностными лицами в отношении заказов военно-морского флота сохраняются лишь обязанности испытания отдельных изготовленных частей н приемка их, испытание н приемка готовых кораблей и судов, а также наблюдение за технически правильным выполнением новых кораблестроительных работ и реконструкции в соответствии с технологическими и общими требованиями. Представители ВМС лишаются права вмешиваться в процесс работы. В случае неудовлетворительного выполнения работ наблюдающим и приемщикам предоставляется право отказаться от испытания и приемки.
7. Распределение заданий, связанных с производством для ВМС оружия, боеприпасов и технического имущества, будет объявлено особо.
Надеемся, что все служебные инстанции, которых касаются эти положения, учтут серьезность обстановки и выполнят возложенные на них задачи. Необходимо добиться, чтобы в условиях непрерывно растущих потребностей военно-морского флота и торгового судоходства путем совместной работы главного командования ВМС и министерства по вооружению и снабжению были успешно разрешены также и вопросы строительства боевых кораблей.
Главнокомандующий военно-морскими силами Дениц.
Имперский министр по вооружению и снабжению Шпеер.
Верно: советник министерства Клайе.
ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕМЕЦКОМУ ПОДВОДНОМУ ФЛОТУ ЗА ПЕРИОД ВОЙНЫ 1939-1945 годов
1. На 1 сентября 1939 года немецкий подводный флот располагал 57 подводными лодками.
2. С 1 сентября 1939 года по 8 мая 1945 года в состав немецкого военно-морского флота вступило еще 1113 подводных лодок, в том числе 1099 вновь построенных на немецких верфях, 4 новые лодки, построенные на иностранных верфях, и 10 трофейных лодок иностранной постройки.
3. Из общего числа 1170 подводных лодок, находившихся в строю, 863 участвовали в боевых действиях, причем каждая совершила от одного и более выходов в море.
Таблица 1. Результаты действий немецких подводных лодок
Классы кораблей
Потоплены
Повреждены
Авианосцы
3
—
Эскортные авианосцы
3
2
Линейные корабли
2
3
Легкие крейсера
5
5
Минные заградители
1
1
Эскадренные миноносцы
34
11
Эскортные миноносцы
18
14
Фрегаты
2
4
Корветы
26
2
Шлюпы
13
3
Эскадренные тральщики
10
—
Подводные лодки
9
—
Корабли ПЛО
3
—
Торпедные катера
3
—
Десантные корабли
13
—
Плавучие мастерские
2
—
Посыльные суда
1
—
Всего
148
45
4. В боевых походах погибло 630 немецких подводных лодок, из них 603 — в результате действий противника, 20 — по невыясненным причинам и 7 — от несчастных случаев.
5. В отечественных водах и портах от действий противника (воздушные налеты, мины) погибла 81 подводная лодка. Кроме того, 42 лодки погибли в результате несчастных случаев.
6. 215 подводных лодок были взорваны или затоплены собственными командами (часть этих лодок впоследствии подняли союзники). 38 подводных лодок за время войны исключены из состава флота из-за невозможности устранить полученные повреждения и по причинам изношенности. 11 лодок переданы флотам других государств и интернированы в поврежденном состоянии в портах других стран. 153 подводные лодки после окончания войны уведены и английские порты или в порты других государств.
7. Результаты действий немецких подводных лодок, включая подрывы на минах, сведены в таблицу 1.
8. Немецкие подводные лодки потопили торпедами, артиллерией и минами 2759 судов общим тоннажем 14 119 413 рег.-бр. тони:
а) в Северном море, в Атлантике и Индийском океане — 2449 судов общим тоннажем 12 923 899 рег.-бр. тонн (торпедами и артиллерией), 54 судна общим тоннажем 192 717 рег.-бр. тонн (на минах);
б) в Ледовитом океане, водах Норвегии, Баренцевом море и на Северном морском пути — 99 судов общим тоннажем 430 318 рег.-бр. тонн;
в) на Средиземном море — 113 судов общим тоннажем 518 453 рег.-бр. тонн;
г) на Балтийском море — около 18 судов общим тоннажем 8 600 рег.-бр. тонн;
д) на Черном море — около 26 судов общим тоннажем 45 426 рег.-бр. тонн.